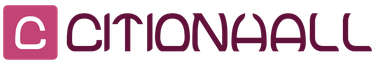Кто начал царствовать ходынкой бальмонт. Такой святой николай второй. Цусима — не позор, а образец воинской доблести русских моряков
А ведь именно такое отношение к народу и стало в свое время главной причиной революции.
На коронацию Николая II съехались гости со всего света: королева греческая, принцы датский, бельгийский, неаполитанский, японский… Папа римский прислал своего нунция, китайский богдыхан - государственного канцлера Поднебесной.
Но ни одна монархия не проявила столько рвения, сколько Французская Республика. В Париже правительство потребовало у парламента кредит в 975 тысяч франков для того, чтобы достойно представить страну на короновании русского царя. И без малого миллион был получен: «Республика достаточно богата, чтобы покрыть расходы, связанные с ее славой и чувствами к дружественной нации».
Франция боялась нападения Германии. Справиться с мощной соседкой в одиночку она не могла. Поэтому радости французов не было конца, когда император Александр III, отказавшись от традиционно германской ориентации, предложил им свою могучую руку.
Германский кайзер Вильгельм II послал на коронацию своего брата, принца Генриха Прусского. Вильгельм затаил обиду на покойного Александра III, который посмеивался над ним, считая дурно воспитанным, и теперь отыгрывался на сыне старого царя. Вильгельм за глаза называл его глуповатым и малообразованным, что не мешало ему писать Николаю длинные письма, в которых он всячески порочил Францию: «Безбожная республика, запятнанная кровью монархов, не может быть подходящей компанией для тебя»; «Ники, поверь моему слову, Бог проклял этот народ навеки».
Дело было не в Боге и не в безбожии. Франции нужна была русская армия, России - французские кредиты: императорский двуглавый орел перешел на новый рацион - золотые франки парижских займов. Впрочем, деньги - свои и чужие - расходовались весьма своеобразно: в 1896 году на народное образование было выделено около двадцати пяти миллионов рублей (примерно два процента бюджета) - и столько же ассигновали на коронацию Николая II.
Коронация свершилась 14 мая 1896 года (все даты по старому стилю) в Успенском соборе Первопрестольной. В луче солнечного света, падавшего из узкого окошка в потолке храма, одиноко стояла мать Николая, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Остальные участники церемонии находились в тени. Императрица-мать казалась отсветом царствования Александра III Миротворца, царствования спокойного и безоблачного, омраченного лишь казнью группы народовольцев под руководством Александра Ульянова…
Зловещие предзнаменования начались еще до коронации, в день именин Николая, 9 мая. За час до прибытия царя во дворец дяди - великого князя Сергея Александровича, московского градоначальника, - загорелись украшения внутри дворцовой церкви. Вечером того же дня во время включения электрической иллюминации запылали декоративные украшения на фасаде самого дворца генерал-губернатора. Все это можно объяснить неумением обращаться с новыми для того времени электроприборами и русской безалаберностью. Однако неблагоприятных знамений оказалось слишком много. В разгар коронации произошло замешательство среди сановников, стоявших вокруг стола с императорскими регалиями: оказалось, престарелому сенатору Набокову (деду писателя) стало плохо. В обморочное состояние впал именно он, а не царь, как показано в фильме «Матильда». Дальше - больше. Оборвалось звено алмазной цепи ордена Святого апостола Андрея Первозванного, который должны были возложить на монарха. Корона оказалась слишком велика и болталась на маленькой голове Николая, так что ему приходилось время от времени подправлять ее, чтобы она не упала. Митрополит Исидор повел императора в алтарь не через постоянные царские врата, а через временно сооруженные, что было совсем не по чину венчания. Раздался трубный глас другого дяди царя, великого князя Владимира Александровича: «Государь, назад!..»
В знак единства царя и народа праздник для подданных хотели сперва провести в день коронации, однако затем отложили на четверо суток - до субботы, 18 мая. За это время по Москве и Подмосковью разнеслась молва о чудесном Ходынском поле, где будут раздавать царские подарки. И народ повалил туда как к молочной реке с кисельными берегами.
Вечером 17 мая коменданта Ходынских военных лагерей капитана Львовича охватила тревога: поле заполнялось тысячами, десятками тысяч людей, они всё прибывали и прибывали. Он отправил срочную депешу командующему Московским военным округом. Ответ пришел скоро: «Мы с тобой здесь не хозяева». Действительно, регулирование людского потока не входило в прямые обязанности армии. Тем не менее Львович принялся телеграфировать во все инстанции. В Москве, вместе с гвардией, прибывшей из Петербурга для участия в коронации, находилось 83 пехотных батальона, 47 кавалерийских эскадронов и свыше 20 артиллерийских батарей. Наконец, ходынскому коменданту прислали в подмогу… сотню казаков. Но и рота Самогитского полка вместе с батальоном Московского полка, выведенные Львовичем из лагеря по его собственной инициативе, оказались бессильны: на Ходынском поле скопилось около пятисот тысяч человек…
19 мая «Московские ведомости» вышли с традиционным набором рекламы на первой полосе: «Просим попробовать вновь выпущенные папиросы «Фурор»; «Сегодня скачки. Начало в три часа дня»; «Боржом»; «Знаменитое белье Мей и Эдлих, самое элегантное, практичное и дешевое»; «Прекрасная Елена», опера-буфф в 3-х действиях. В саду «Эрмитаж» большое гулянье».
Только на второй странице, среди других сообщений, обыватели могли прочитать заметку: «На Ходынское поле, за Тверской заставою, на котором должны были происходить угощение и увеселение народа, еще с вечера потянулись народные массы, чтобы провести ночь под открытым небом и быть первыми при раздаче царских гостинцев. Царский гостинец состоял из узелка с эмалированной кружкой с вензелями Их Величеств, фунтовой сайки, полуфунтовой колбасы, вяземского пряника с гербом и мешочка сластей и орехов весом в 3/4 фунта… Никто не мог ожидать, что разыграется такая ужасная драма, какая произошла у бараков с выдачей пива и меда. Каким образом случилось такое несчастье - покажет расследование; пока же показания очевидцев расходятся. К восьми часам утра удалось оттеснить народные массы и этим устранить народные несчастья. Как показывает официальное сообщение, цифра умерших от увечий достигла громадного числа».
Следствию открылась картина предельно легкомысленного отношения к организации праздника на Ходынском поле. С некоторых сторон проникнуть на поле можно было свободно, однако главную линию входа обнесли тесовым забором с многочисленными проходами в виде сужающихся воронок. Люди влезали в эти воронки сотнями, а выходить на поле могли лишь по одному. Сзади напирала толпа и прижимала людей к стенкам, давя и расплющивая. Если неувязки, случившиеся в Успенском соборе, лишь пощекотали нервы, то неорганизованность на Ходынском поле привела к чудовищной трагедии: только по официальным данным число погибших составило 1389 человек, искалеченных - 1300.
Один из спасшихся во время давки - семнадцатилетний мастеровой Василий Краснов - написал пронзительные воспоминания, опубликованные уже в советское время. Он рассказал, как целыми семьями, с малыми детьми и седыми стариками, шел на поле народ; как под утро многим захотелось уйти, а идти было некуда: к рассвету толпа уже стояла плечом к плечу. Не хватало воздуха, людей мутило, многих рвало, кто-то терял сознание - и вместе с тем жизнь.
«Временами толпою как бы овладевало раздумье - и она затихала и замирала ненадолго. Тогда она чуть редела. И в минутном затишье движения начинался страшный отбор живых и мертвых. Многие были уже давно полумертвые и волочились вместе со всеми, плотно сжатые теснотой. А как становилось просторнее и исчезали подпорки, они резко склонялись на плечо соседу, обдавая его лицо и шею крупными каплями пота. Тот брезгливо подергивался и сторонился. А обморочный склонялся все ниже и ниже, увлекаемый собственной тяжестью к земле. И люди ходили по людям, смешивая их с землей, до неузнаваемости уродовали сапогами их лица. И я ходил по упавшим, добивая их вместе со всеми невольно. Вот чувствуешь, что под тобой человек, что ты стоишь на его ноге, на груди, весь дрожишь на месте, а податься некуда. Сами собой поджимаются ноги… Но плечи и грудь твоя крепко зажаты соседями, - хочешь не хочешь, шевели ногами, поспевай в этом дьявольском хороводе с всеми.
Ни ветерка, ни времени словно не существовало вовсе. Тягучая, нудная бесконечность овладевала нами и носила нас по полю. Спереди несутся неистовые вопли: «Православные, мы погибаем, - ради Бога, не напирайте!» Крики беспрерывно несутся по полю с плачем как приговор самим себе. Словно сразу в тысяче мест кого-нибудь хоронит и отпевает эта толпа.
В наиболее тяжелые минуты толпа принимается жадно и слитно петь: «Спаси, Господи, люди Твоя», «Царю небесный, утешителю» - и первые слова молитвы жарко и сильно брались толпою; потом пение слабело и терялось, а под конец переходило в нестройное бормотание только немногих.
Не один раз протаскивались над моею головой женщины и старики. Их толпа щадила и давала дорогу по своим головам. Они стонали и ползли по головам толпы, как раненые с поля битвы. И детей щадила толпа и передавала их любовно с головы на голову, словно раскаиваясь в своей вине за то, что привлекла их с собой сюда. А чуть кто помоложе да поздоровее (вроде меня) выберется кверху, его, почти голого, живо и злобно сдергивали вниз, срывая с него последние остатки платья. Наконец, не помню уж как, я совсем было выбрался из толпы кверху. Но подоспел новый вздох прилива; шквал опять стиснул толпу, и я остался висеть в воздухе, по пояс зажатый плечами соседей…»
В начале седьмого часа утра на Ходынское поле явился генерал Бер, заведовавший подготовкой народного праздника. Он оказался свидетелем того, как из людского моря был «выплеснут» труп шестнадцатилетней девушки, который толпа перекидывала по головам на свободное место, подобно волне, выносящей на берег утопленника. Генерал немедленно отдал приказ начать выдачу подарков ранее намеченного срока.
«Вдруг словно молния возбуждения прошла по толпе, - вспоминал Краснов, - она неистово зашевелилась, склеилась в одном порыве, загалдела:
- Дают! Дают! Не зевай, наши!
- Ур-рр-а-а!!! Дают! Дают!
- А-а-а… О-о-о…
Дикий сплошной крик и гул.
И заработали мельницы-костоломки под напором людского потока. Что тут творилось, и рассказать невозможно. Слышно было, как хрустят кости и ломаются руки, хлюпают внутренности и кровь… Дальше ничего не помню. Упал.
Опомнился я весь в крови, невдалеке от будок, на лужайке. Донесенный на плечах до самого горлышка воронки-барьера, я, вероятно, упал под ноги по ту сторону, как только разошлись люди, державшие меня между плеч, и меня оттащили дальше. Все пространство от меня до будок было усеяно павшими, мертвыми или еще не очнувшимися от обморока. Некоторые лежали вытянувшись, как покойники дома на своих столах, под образами.
Близко от меня, рядом, сидел на лужайке грузный татарин. Из-под его тюбетейки струились ручейки пота, и весь он был - как из бани - красный и мокрый. У его ног лежал узелок с гостинцами, и он ел пряник и пирожок, кусая их по очереди, запивая из кружки медом. Я попросил его дать мне попить, он подал меду из своей кружки. На мои жалобы, что вот, мол, меня смяли, а я ничего не получил, татарин пошел и вскоре принес мне узел с гостинцами и кружку из будки».
Страшное известие о Ходынской катастрофе быстро дошло до высокопоставленных лиц. Сергей Юльевич Витте, в ту пору министр финансов, встретился с высоким китайским гостем Ли Хунчжаном. Посланец китайского императора спросил:
- Скажите, пожалуйста, неужели об этом несчастье все будет подробно доложено государю?
В ответ на утвердительный ответ Витте вежливый китаец покачал головой:
- Ну, у вас государственные деятели неопытные; вот когда я был генерал-губернатором Печилийской области, то у меня была чума и поумирали десятки тысяч людей, а я всегда писал богдыхану, что у нас благополучно… Ну скажите, пожалуйста, для чего я буду огорчать богдыхана сообщением, что у меня умирают люди? Если бы я был сановником вашего государя, я, конечно, все от него скрыл бы. Для чего его, бедного, огорчать?
«Все-таки мы ушли далее Китая», - подумал Витте. Но что было делать дальше? Может, объявить траур? Отслужить панихиду? Возникал еще один деликатный вопрос. Вечером 18 мая, когда многие уже знали о московской трагедии, должен был состояться бал во французском посольстве - праздник, символизирующий верность России своему новому союзнику. Министр финансов встретился с государственными мужами, в том числе с великим князем Сергеем Александровичем. «Заговорили об этой катастрофе, причем великий князь нам сказал, что многие советовали государю просить посла отменить этот бал и во всяком случае не приезжать на этот бал, но что государь с этим мнением совершенно не согласен; по его мнению, эта катастрофа есть величайшее несчастье, но несчастье, которое не должно омрачать праздник коронации; ходынскую катастрофу надлежит в этом смысле игнорировать».
Среди тех, кто был за отмену бала, оказались не только мужи, но и бывшая главная государственная жена - вдова Александра III Мария Федоровна, урожденная датская принцесса Дагмара. Однако недаром говорят: «Ночная кукушка дневную перекукует». Главной государственной женой для Николая стала супруга - Александра Федоровна, в девичестве Алиса Гессенская.
Высшие государственные интересы и главная женщина империи требовали бала. С десяти часов вечера в посольстве начались танцы. В антрактах пел хор русских певиц, одетых для экзотики боярынями. Во втором часу ночи их величества изволили отбыть, остальные веселились до утра.
Николай не преклонял колен и не просил прощения у народа на Ходынском поле, как показано в «Матильде». Прощения у венценосной четы просили пострадавшие, когда царь с царицей посещали больницы, где лежали искалеченные. Те винились и каялись в том, что испортили праздник. Император приказал похоронить задавленных за свой счет и выдать каждой семье, потерявшей кормильца, по тысяче рублей из личных средств. Богат был царь... А императрица во время посещения 22 мая супругами Троице-Сергиевой лавры приобрела пятьсот серебряных образков для раздачи несчастным, получившим увечья на Ходынском поле. Однако и тут произошла накладка: перед воротами лавры венценосцев никто не встретил, как полагалось по этикету. Наконец Николая с женой увидели, пошла суета, беготня, запоздалые приветствия. Но пошел слух: «Неблаголепно получилось, значит, преподобный Сергий Радонежский не одобрил нового царя».
Погибших во время ходынской давки хоронили на Ваганьковском кладбище. «Неопознанных, - писал Краснов, - зарывали в длинные ямы длиною в сорок пять аршин, шириной в двенадцать и глубиной в шесть аршин, гроб на гроб в три ряда. Ставились сосновые шестиконечные кресты рядами, как солдаты в строю. И надписи, спешные и растерянные, карандашом, похожие на горестный лепет: «Пострадавшие на Ходынке», «Прими их с миром, Господи», «Внезапно скончавшиеся, имена их Ты, Господи, знаешь…» Ни имен, ни фамилий нет. На многих крестах висели нательные крестики, ладанки с херувимчиками, образки Богородицы, Спасителя… «Рабы Божии Мария, Анна, девица Татьяна, Волоколамского уезда, из Яропольца, погибли 18 мая» - и один крест над тремя.
В то время как на кладбище происходили раздирающие душу сцены опознания раздавленных - по лбу с завитком волос, по уцелевшим сережкам, по обрывку цветной кофты, великий князь Владимир Александрович, принц неаполитанский и другие рядом, в голубином садке, потешались стрельбою «в лет». Принц неаполитанский убил даже коршуна над кладбищем: он упал между лежащими телами, около корчившихся в слезах родственников раздавленных».
Трагедия во время коронации Николая II показалась мрачным знаком. В книге Гиляровского «Москва и москвичи» говорится:
«На беду это. Не будет проку от этого царствования.
Так сказал старый наборщик «Русских ведомостей», набиравший мою статью о ходынской катастрофе.
Никто не ответил на его слова. Все испуганно замолчали и перешли на другой разговор».
В 1905 году московский градоначальник, великий князь Сергей Александрович, получивший прозвище Князь Ходынский, был убит эсером Иваном Каляевым. А в 1907-м, на исходе Первой русской революции, изысканный Константин Бальмонт опубликовал в Париже стихи, которых от него никто не ожидал: грубые, злые, плакатные, слабые в художественном отношении, но оказавшиеся пророческими:
Кто начал царствовать Ходынкой,
Тот кончит - встав на эшафот.
Оригинал взят у humus

1.
2.
"Для Николая II было свойственно и такое качество, как безразличие к судьбам окружавших его людей. Это прослеживается на протяжении всей его жизни. Прежде всего надо напомнить о событиях, связанных с коронацией Николая II. Это хорошо всем известная катастрофа на Ходынском поле 18 мая 1896 г., когда погибло около 1300 человек, а многие тысячи были ранены. А какой была реакция Николая II?
Гуляния отменены не были, продолжались выступления клоунов, работа балаганов. Более того, вечером то же дня у французского посла Монтебелло должен был состояться бал в честь Николая II и его супруги. По словам московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, дяди Николая, "многие советовали государю просить посла отменить бал и во всяком случае не приезжать на этот бал, но государь с этим мнением совершенно не согласен. По его мнению, эта катастрофа есть величайшее несчастье, которое не должно омрачать праздник коронации; ходынскую катастрофу надлежит в этом смысле игнорировать ". Бал открыли Николай и Александра Федоровна.
"Сегодня случился великий грех, - записал Николай II 18 мая в дневнике, - ...потоптано около 1300 человек ! Отвратительное впечатление осталось от этого известия. В 12 1/2 завтракали, и затем Аликc и я отправились на Ходынку на присутствование при этом печальном "народном празднике". Собственно там ничего не было... Поехали на бал к Монтебелло. Было очень красиво устроено ".
Не были отменены и другие мероприятия. На следующий день он записал: "В 2 ч. Аликc и я поехали в Старо-Екатерининскую больницу, где обошли все бараки и палатки, в которых лежали несчастные пострадавшие вчера... В 7 ч. начался банкет сословным представителям в Александровском зале". А 21 мая в дневнике записано: "В 10 3/4 поехали на бал в Дворянское собрание".
Вот так отреагировал император на ходынскую катастрофу. Не случайно, что после этого его окрестили "кровавым". Виновные в катастрофе, прежде всего генерал-губернатор Москвы, не понесли наказания".
Источник: Е.С. Радциг "Николай II в воспоминаниях приближенных"

3.

4.

5.
"Наш царь — Мукден, наш царь — Цусима,
Наш царь — кровавое пятно,
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму — темно.
Наш царь — убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь — висельник, тем низкий вдвое,
Что обещал, но дать не смел.
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждёт.
Кто начал царствовать — Ходынкой,
Тот кончит — встав на эшафот
".
К.Д. Бальмонт, 1906, за 12 лет до "эшафота".
Забытый Серебряный век. Разжигание социальной розни, оправдание терроризма и призывы к насильственному свержению самодержавного строя...
Из сборника "Песни мстителя" (1907)
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
Если хочешь смести паутину,
Так смотри и начни с паука.
Если хочешь ты вырубить прорубь, исторгни тяжелую
льдину.
Если хочешь ты песню пропеть, пусть же будет та песня
звонка.
Если хочешь, живи. Если ж в жизни лишь тюрьмы и
стены,
Встань могучей волной - и преграду стремленьем
разбей.
Если ж стены сильней, разбросайся же кружевом пены,
Но живешь - так живи, и себя никогда не жалей.
НАШ ЦАРЬ
Наш царь - Мукден, наш царь - Цусима,
Наш царь - кровавое пятно,
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму - темно.
Наш царь - убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь-висельник, тем низкий вдвое,
Что обещал, но дать не смел.
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, - час расплаты ждет.
Кто начал царствовать - Ходынкой,
Тот кончит - встав на эшафот.
ЦАРЬ-ЛОЖЬ
Народ подумал: вот - заря,
Пришел тоске конец.
Народ пошел - просить царя.
Ему в ответ - свинец.
А, низкий деспот! Ты навек
В крови, в крови теперь.
Ты был ничтожный человек,
Теперь ты грязный зверь.
Но кровь рабочего взошла,
Как колос, перед ним.
И задрожал приспешник зла
Пред колосом таким.
Он красен, нет ему серпа, -
Обломится любой.
Гудят колосья, как толпа,
Растет колосьев строй.
И каждый колос - острый нож,
И каждый колос - взгляд.
Нет, царь, теперь не подойдешь,
Нет, подлый царь, назад!
Ты нас теперь не проведешь
Девятым января.
Ты - царь, и, значит, весь ты ложь
И мы сметем царя!
ЗВЕРЬ СПУЩЕН
Зверь спущен. Вот она, потеха
Разоблаченных палачей.
Звериный лик. Раскаты смеха.
Звериный голос: "Бей! Бей! Бей!"
И вдоль по всей России снова
Взметнулась, грязная всегда,
Самодержавия гнилого
Рассвирепевшая орда.
Удар могучий общей стачки
Их выбил вон из колеи.
Добычи нужно им, подачки
От их Романовской семьи.
Но мы не спим, мы чётко видим,
Борцов восстания не счесть.
И тех, кого мы ненавидим,
В свой должный миг постигнет месть.
Гуляй же, Зверь самодержавья,
Являй всю мерзостность для глаз.
Навек окончилось бесправье.
Ты осужден. Твой пробил час,
БУДТО БЫ РОМАНОВЫМ
Ослабели Романовы. Давно их пора убрать.
Слова костромского мужика
Были у нас и цари, и князья.
Правили. Правили разно.
Ты же, развратных ублюдков семья,
Правишь вполне безобразно.
Даже не правишь. Ты просто бедлам,
Злой, полоумно-спесивый.
Дом палачей, исторический срам,
Глупый, бездарный и лживый.
Был в оны годы безумный Иван,
Был он чудовищно-ликим,
Самоуправством кровавым был пьян,
Все ж был он грозно-великим.
Был он бесовской мечтой обуян,
Дьяволам был он игрушка;
Этот, теперешний, лишь истукан,
Марионетка, Петрушка.
Был в оны годы, совсем идиот,
Ликом уродливый Павел,
Кукла-солдатик - но все же и тот
Лучшую память оставил.
Павла пред нынешним нужно ценить,
Павел да будет восхвален:
Он не тянул свою гнусную нить,
Быстро был создан им Пален.
Этот же мерзостный, с лисьим хвостом,
С пастью, приличною волку,
К миру людей закликает, - притом
Грабит весь мир втихомолку.
Грабит, кощунствует, ежится, лжет,
Жалко скулит, как щенята.
Вы же, ублюдки, придворный оплот,
Славите доброго брата.
Будет. Окончилось. Видим вас всех.
Вам приготовлена плаха.
Грех исказнителей - смертный есть грех.
Ждите же царствия страха!
НЕИЗБЕЖНОСТЬ
Убийства, казни, тюрьмы, грабежи,
Сыск, розыск, обыск, щупальцы людские,
Сплетения бессовестнейшей лжи,
Слова - одни, и действия - другие.
Романовы с холопскою толпой,
С соизволенья всех, кто сердцем низок,
Ведут, как скот, рабочих на убой.
Раз, два, конец. Но час расплаты близок.
Есть точный счет в течении всех дней,
Движенье в самой сущности возвратно.
Кинь в воздух кучу тяжкую камней,
Тебе их тяжесть станет вмиг понятна.
Почувствуешь убогой головой,
Измыслившей подобные забавы,
Что есть порядок в жизни мировой,
Ты любишь кровь - ты вступишь в сон кровавый.
Из крови, что излита, встанет кровь,
Жизнь хочет жить, к казнящим - казнь сурова.
Скорее, Жизнь, возмездие готовь,
Смерть Смерти, и да будет живо Слово!
ПРЕСТУПНОЕ СЛОВО
Покуда в тюрьмах есть сходящие с ума,
Тот должен сам узнать весь ужас заключенья,
Понять, что вот - кругом - тюрьма.
Почувствовать, что ум, в тебе горевший гордо,
Стал робко ищущим услад хоть в бездне сна,
Что стерлась музыка - до крайнего аккорда:
Стена, стена и тишина.
Кто будет говорить о слове примиренья,
Тот предает себя и предает других,
И я ему в лицо, как яркое презренье,
Бросаю хлещущий мой стих.
Из стихотворений 1906 года
ПОЭТ - РАБОЧЕМУ
Я поэт, и был поэт,
И поэтом я умру.
Но видал я с детских лет
В окнах фабрик поздний свет, -
Он в уме оставил след,
Этот след я не сотру.
Также я слыхал гудок -
В полдень, в полночь, поутру,
Хорошо я знаю срок,
Как велик такой урок,
Я гудок забыть не мог,
Вот - я звук его беру.
Почему теперь пою?
Почему не раньше пел?
Пел и раньше песнь мою,
Я литейщик - формы лью,
Я кузнец - я стих кую,
Пел, что молод я и смел.
Был я занят сам собой,
Что ж - я это не таю.
Час прошел. Вот - час другой.
Предо мною вал морской,
О рабочий, я с тобой,
Бурю я твою - пою.
К РАБОЧЕМУ
Рабочий, странно мне с тобою говорить:
По виду - я другой. О, верь мне, лишь по виду.
В фабричном грохоте свою ты крутишь нить,
Я в нить свою, мой брат, вкручу твою обиду.
Оторван, как и ты, от тишины полей,
Которая душе казалася могильной,
Я в шумном городе, среди чужих людей,
Не раз изнемогал в работе непосильной.
Я был как бы чумой в своей родной семье,
Меж торгашами слов я был чужой бесспорно.
По морю вольному я плыл в своей ладье -
И море ширилось безбрежно, кругозорно.
Мне думать радостно, что прадеды мои
Блуждали по морям на Севере туманном.
В моей душе всегда поют, журчат ручьи,
Растут, чтоб в море впасть в стремленье необманном.
В болотных низостях ликующих мещан
Тоскует вольный дух, безумствует, мятется.
Но тот отмеченный, кто помнит - океан,
Освобожденья ждет - и бури он дождется.
Она скорей пришла, чем я бы думать мог,
Ты встал - и грянул гром, все вышли из преддверья.
На перекрестке всех скрестившихся дорог
Лишь к одному тебе я чувствую доверье.
Я знаю, что в тебе стальная воля есть, -
Недаром ты стоишь близ пламени и стали.
Ты в судьбах родины сумел слова прочесть,
Которых мудрые, читая, не видали.
Я знаю, можешь ты соткать красиво ткань,
Раз что задумаешь - так выполнишь, что надо.
Ты мирных пробудил, ты трупу молвил: "Встань", -
Труп - жив, идут борцы, встает, растет громада.
Кругами мощными растет водоворот,
Напрасны лепеты, напрасны вопли страха, -
Теперь уж он в себя все, что кругом, вберет,
Осуществит себя всей силою размаха.
НАЧИСТОТУ
Кто не верит в победу сознательных смелых рабочих.
Тот играет в бесчестно-двойную игру.
Он чужое берет, - на чужое довольно охочих, -
Он свободу берет, обагренную кровью рабочих, -
Что ж, бери, всем она, но скажи: "Я чужое беру".
Да, свобода - для всех, навсегда, и, однако ж, вот эта свобода,
И, однако ж, вот эта минута - не комнатных душ,
Не болтливых, трусливых, а смелых из бездны народа,
Эта воля ухвачена с бою, и эта свобода -
Не застольная речь краснобая, не жалкий извилистый уж.
Это кровь, говорю я, посмевших и вставших рабочих,
И теперь - кто не с нами, тот шулер продажный и трус.
Этих мирных, облыжно-культурных, мишурных и прочих
Я зову: "Старый сор!" И во имя восставших рабочих
Вас сметут! В этом вам я, как голос прилива, клянусь!
ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ
"Земля и воля" - крик народа,
"Земля и воля" - клич крестьян.
Рабочий крикнул сквозь туман.
"Всё - заново, и всем - свобода", -
Как будто вторит океан.
Мне чудится, что бурным ходом
Идет приливная волна.
Конец - тюремным низким сводам,
В тюрьме разрушена стена.
Судьба России всем народом
Теперь должна быть решена.
Крепчает, воет непогода,
Но ум рабочего - маяк.
В Земле и Воле - жизнь народа,
Опять душить не сможет мрак.
Всё - заново, и всем - свобода.
Да будет так! Да будет так!
РУССКОМУ РАБОЧЕМУ
Рабочий, только на тебя
Надежда всей России.
Тяжелый молот пал, дробя
Оплоты крепостные.
Тот молот - твой. Пою тебя
Во имя всей России!
Ты знал нужду, ты знаешь труд,
Ты слишком знаешь голод.
Но ты восстал. С тобой идут
Все те, кто сердцем молод.
Будь тверд, яви еще свой суд,
Острог не весь расколот.
Тебя желают обмануть
Опять, опять и снова.
Но ты нам всем наметил путь,
Дал всем свободу слова.
Так в бой со тьмой, и грудь - на грудь, --
То - зов сторожевого.
Сторожевой средь темноты,
Сторожевой средь ночи -
Лишь ты, бесстрашно-смелый, ты!
Твои нам светят очи.
Осуществятся все мечты,
Ты победишь, рабочий!
Из сборника "Песня рабочего молота" (1922)
ВОЛЬНЫЙ СТИХ
К Иваново-Вознесенским рабочим
Какое гордое счастье знать, что ты нужен людям,
Чуять, что можешь пропеть стих, доходящий в сердца.
Сестры! Вас вижу я, сестры. Огнем причащаться будем.
Кубок пьянящей свободы, братья, испьем до конца!
Силою мысливших смело, свершеньем солдат и рабочих
Вольными быть нам велит великая в мире страна.
Цепи звенели веками. Цепи изношены. Прочь их.
Чашу пьянящего счастья, братья, осушим до дна!
Смелые сестры, люблю вас! В ветре вы - птицы живые.
Крылья свободы шуршат шорохом первых дождей.
Слава тебе и величье, благодатная в странах Россия,
Многовершинное древо с перекличкой и гудом ветвей!
ПОЭТ - РАБОЧЕМУ
Рабочий, я даю тебе мой стих
Как вольный дар от любящего сердца,
В нем - мерный молот гулких мастерских,
И в нем - свеча, завет единоверца.
Здесь не чужой с тобою говорит,
Не баловень изнеженный и праздный:
В узор сложил я много стройных плит,
Взяв мыслью их из груды безобразной.
Мой лом, моя упорная кирка
Работали в ночах каменоломни
Не день, не два, а долгие века.
Я - труженик столетий. Знай и помни.
Провидец, зодчий, ждущий и поэт,
Я - старший брат идущих через ночи,
Я - память дней, звено несчетных лет,
Хранитель всех лучистых средоточий.
Ты думаешь, что выси пирамид
Взнесла рука и те, что гнули спины?
О да! Но я был связью этих плит,
Чертеж всего замыслил я единый.
И, чертежи меняя по векам,
Разнообразя лик людских столетий,
Я не давал уснуть моим зрачкам,
И не сплетал для вольного я сети.
Когда тебя туманили цари,
Я первый начал бунт свободным словом
И возвестил тебе приход зари, -
В ней - гибель истлевающим основам.
Не я ли шел на плаху за тебя?
В тюрьму, в изгнанье уходил не я ли?
Но сто дорог легко пройдешь, любя, -
Кто хочет жертвы, не бежит печали.
Я ждал и жаждал вольности твоей,
Мне грезится вселенский праздник братства -
Такой поток ласкающих лучей,
Что не возникнет даже тень злорадства.
И час пришел, чтоб творчество начать,
Чтоб счастье всех удвоить и утроить.
Так для чего ж раздельности печать
На том дворце, который хочешь строить?
Кто верит в созидание свое,
Тот видит ложь в расколе разделенья.
Заря взошла, горит, вглядись в нее,
Сияет солнце без ограниченья.
Так будем же как солнце наконец,
Признаньем все хотенья обнимая,
И вольно примем вольность всех сердец
Во имя расцветающего Мая.
ИМЕНИ ГЕРЦЕНА
Россия казней, пыток, сыска, тюрем,
Страна, где рубят мысль умов сплеча,
Страна, где мы едим и балагурим
В кровавый час деяний палача.
Страна, где пляшет право крепостное,
Где змей - царем, змееныши - царьки,
Где правило - разгул в грязи и гное,
Страна метели, рабства и тоски, -
Он знал ее, мыслитель благородный,
Чей дух - к борьбе зовущая струна,
Но он разлив предвидел полноводный,
Он разгадал колодец в ней без дна.
Где ценный клад скрывается века, -
И в сказке спят подолгу великаны,
Но в сказке есть свирель из тростника.
В такой тростник дохни - ответит песней,
И волею зовется тот напев,
Он ширится все ярче и чудесней,
Сон рассечен, алмазом блещет гнев.
Таинственная кузница грохочет,
Тяжелый молот наковальню бьет,
Тростник поет, огню победу прочит,
И в пламенях есть пляска и черед.
В сияниях все белое пространство,
Полярная звезда горит снегам,
Для жизни нужно новое убранство,
И великан светло идет к врагам.
До океанов плещут океаны,
И колокол вещает вечевой:
Есть в мире зачарованные страны,
Россия, быть как в сказке - жребий твой.
Разрушен навсегда твой терем древний
Со всем его хорошим и дурным,
Над городом твоим и над деревней
Прошел пожар и вьется красный дым.
Но если в каждом - дух единоверца,
И эта вера - счастье вольных всех,
Мы будем все - пылающее сердце,
И будет весь искуплен старый грех.
Кто в колокол ударил, верил в это,
Пусть только в брате брата видит брат,
Построим жизнь из одного лишь света,
Чтоб бег часов был звучный водопад.
ПЕСНЯ РАБОЧЕГО МОЛОТА
Стук-стук, молоток,
В каждой планке свой гвоздок.
Каждый гвоздик в самый раз,
Будет круглый стол у нас.
Доверши сполна урок,
Стук-стук, молоток.
За столом мы сядем дружно -
Вся рабочая семья.
За окошком будет вьюжно,
И в морозе песнь твоя.
Стук-стук - по стенам,
Холод, голод ходят к нам.
Стук-стук - в чердаки,
Мы не рады вам, дружки.
Загоняй их в уголок,
Стук-стук, молоток.
Стук-стук, поспевай,
Нам кровать приготовляй.
Составляй ее плотней,
Сердце с сердцем будет в ней.
Есть для счастья час и срок,
Стук-стук, молоток.
Для объятий и зачатий
Мы в беседке верной - в ней.
Мы рождаемся в кровати,
Спим. Уснем еще верней.
Стук-стук, молоток,
Пляшет звонко быстрый скок.
А окончим здесь свой час,
Добрым словом вспомнят нас.
Сноп готов, и сноп - на ток,
Стук-стук, молоток.
Бей, бей, молот мой,
В кузне - тьма и в кузне - зной.
Темень в пламень перельем.
Где железо? Путь куем.
В солнце - ходим за сохой,
Пой, пой, молот мой.
Услышьте все, кто жив и молод:
Свободный труд - как изумруд.
Я - в пляске, я - рабочий молот,
Во мне столетия поют.
В Египте, звавшемся иначе,
И в древней Индии, и где -
Везде свой лик я обозначил,
Как сребро-месяц на воде.
Как вестник солнечного Гора,
Что есть: рассветная заря, -
Я лезвеё ковал для спора,
Вскрыл целину, свой час творя.
Ковал мотыги я и плуги,
Метал, как молнии, мечи,
Я был на севере и юге,
Я - молот, - слушай и молчи.
Серпы я выковал, и косы,
И разрубающий топор,
Идут, косцы - рядами - босы,
Но им в заре - златой убор.
Плясал я весело и звонко,
Любил огонь вдыхать и пить,
Сковал игрушку для ребенка,
Венец - чтобы его разбить.
Как прикасается до цели
По-соколиному стрелок,
Так я качаю в колыбели,
В работе, молот - молоток.
Мечись направо и налево,
Дождями брызги золоти,
Будь словом правды, криком гнева,
Будь нам звездою на пути.
В текучем пламени - расцветы,
В плавильне для руды - уют,
Еще не все напевы спеты, -
Впервые мне века поют.
Я пересек моря и горы,
Я смерил взором темноту,
Мои дорожные узоры
Черчу по горному хребту.
Я крикну - отклик до востока,
Я стукну - запад задрожал,
Мое сияние широко
И пламень мой набатно-ал.
Я - бунт, я - взрыв, я - тот, который
Разрушил смехом слепоту,
Пряду из зарева уборы,
Хватаю звезды на лету.
Гранит высоких скал расколот,
Я ходы вырыл в глубине,
Я - сердце мира, слушай, молот,
Я - кровь, я - жизнь, будь верен мне.
Я там, где брызжет смех в избытке,
Где бледно голубеет сталь,
Где солнца золотые слитки
И самый холеный хрусталь.
Я там, где свежие алмазы,
Где синий яхонт и рубин,
Всех стран качну ударом связы,
Я - труженик, я - властелин.
И с детства повесть мне знакома,
Что майский ливень, блеск и гул -
Есть пляс, веселый хохот грома, -
Громовник молот свой качнул.
Над первым светлым утром Мая,
Где маки молний - чрез века,
Тяжелый молот поднимая,
Взнеслась победная рука.
Стук-стук, молот мой,
Тьма за светом, свет за тьмой.
Мы по наковальне бьем,
Знаем песню о своем.
С солнцем - к счастью и домой,
Стук-стук, молот мой.
15 июня исполнилось 151 год со дня рождения выдающегося русского поэта Константина Бальмонта. Одно его стихотворение под названием «Наш царь» очень часто используют современные ненавистники последнего царя и российской монархии вообще. Мол, посмотрите, даже известный поэт жестко критиковал Николая Александровича. При этом, как правило, игнорируется контекст появления стихотворения и то, что происходило позже. А между тем, если изучить эти обстоятельства, можно осудить поэта и похвалить императора. По крайней мере, контекст создания этого поэтического текста знать желательно.
Константин Бальмонт
Итак, вот это стихотворение.
Наш царь - Мукден, наш царь - Цусима,
Наш царь - кровавое пятно,
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму - темно.
Наш царь - убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь-висельник, тем низкий вдвое,
Что обещал, но дать не смел.
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, - час расплаты ждет.
Кто начал царствовать - Ходынкой,
Тот кончит - встав на эшафот.
Последнюю строчку иногда называют «пророческой»… По прочтении этого стихотворения сразу же задаешься вопросом: «Почему поэта не посадили?» Вспоминая хотя бы судьбу Осипа Мандельштама, позже написавшего подобное стихотворение о Сталине… А Бальмонта, по идее, за такое должны были хотя бы задержать.
Начинаешь изучать контекст создания текста и узнаешь, что в это время Бальмонт был за границей - в Париже. Разумеется, становится интересно, а как он там оказался? И выясняется, что он участвовал в революции 1905-1907 годов, а именно в московском декабрьском восстании на Красной Пресне. Правда, участвовал больше стихами и, вероятно, никого не застрелил. А потом (весьма вовремя) решил эмигрировать. И в эмиграции издал сборник «Песни мстителя», куда и входило данное произведение.
Про это нужно помнить, когда читаешь это стихотворение, поскольку часто можно встретить мнение, что его конец - образ, а не призыв к действию. Но Бальмонт в это время вращался в компании людей, которые ставили целью именно убийство царя. И название сборника тоже показательно - «Песни мстителя».
Ну и в конце концов, можно посмотреть другие стихи из этого сборника. Например, в стихотворении «Николаю Последнему» есть строчки:
Ты должен быть казнен рукою человека,
Быть может собственной, привыкшей убивать,
Ты до чрезмерности душою стал калека,
Подобным жить нельзя, ты гнусности печать.
Ты осквернил себя, свою страну, все страны,
Что стонут под твоей уродливой пятой,
Ты карлик, ты Кощей, ты грязью, кровью пьяный,
Ты должен быть убит, ты стал для всех бедой.
Как видим, лексика хулителей верховного правителя за прошедшие сто лет изменилась мало…
В любом случае здесь явно и недвусмысленно говорится о цареубийстве. Хотя, конечно, не стоит видеть в этом что-то «пророческое» - это лишь изложение планов революционеров. Да, позже некоторые из них смогли осуществить эту угрозу. Но с тем же успехом можно называть «пророческими» речи во время войн, когда ораторы говорят: «Мы победим», - и данные войны действительно для кого-то оказываются победоносными. Таким образом, на каждой войне половина ораторов (те, которые были на стороне победителей) оказываются «пророками». Да и не стоял Николай Александрович на эшафоте. Не было никакого суда, и казнью его убийство едва ли можно назвать.
Также не стоит по Константину Дмитриевичу Бальмонту судить обо всех поэтах Серебряного века. Его поведение было скорее исключением. Большинство же поэтов предпочитали быть аполитичными. Да и сам Бальмонт позже будет говорить, что поэт по сути своей должен быть вне партий.
Но тогда он активно занимался политикой. В названном сборнике вообще много интересного. Например, в стихотворении «Преступное слово» он пишет следующее.
Кто будет говорить о слове примиренья,
Тот предает себя и предает других,
И я ему в лицо, как яркое презренье,
Бросаю хлещущий мой стих.
Однако вскоре поэт пожалел об этих своих стихах. Его тянуло на родину. «Жизнь заставила меня надолго оторваться от России, и временами мне кажется, что я уже не живу, что только струны мои еще звучат», - признавался он. Он хотел снова писать и издавать стихи в России. По сути, он хотел снова стать законопослушным жителем Российской империи. Но вот оказаться в имперской тюрьме ему не хотелось.
И тут интересно, что сделали российские власти, то есть Николай II. В 1913 году в России отмечалось 300-летие дома Романовых. По этому радостному поводу объявили амнистию политическим эмигрантам. Под эту амнистию попал и Константин Дмитриевич. Ему дали возможность вернуться, и он этой возможностью воспользовался. В мае 1913 года ему была устроена пышная встреча на Брестском вокзале.

Государь император Николай Александрович
Бальмонт вернулся и вновь стал подданным царя, которому когда-то желал смерти. Он перестал быть революционером и снова стал тем, каким его помнят и любят, - российским поэтом. Ездил по стране с лекциями, издавал сборники стихов.
Надо думать, в это время он надеялся, то все забудут его революционное прошлое и нигде не будут всплывать те его стихи.
Но слово не воробей, особенно если это слово большого поэта. Стихи, вышедшие из-под его пера, начинают жить своей жизнью, на которую поэт не всегда может повлиять. Часто так получается, что порой поэтов помнят за труды, в которых они сами раскаивались. И если российские власти про крамольные стихи Бальмонта забыли, простив ему революционное прошлое, то сейчас многие только эти его стихи и знают.
В марте 1917 года, как известно, Николай II был отстранен от власти, а затем его брат подписал манифест об Учредительном собрании. Эти события известны как Февральская революции. В этой революции Константин Бальмонт участия не принимал. Правда, он ее приветствовал, но здесь он был не оригинален - ее многие приветствовали, включая тех, кто потом пожалел об этом. А вот Октябрьская революция заставила Бальмонта ужаснуться. Поэт характеризовал большевиков как носителей разрушительного начала, подавляющих личность.

Убийство царской семьи
17 июля 1918 года Николай II вместе с семьей и слугами был убит в Ипатьевском доме. Сбылось «пророчество» (а точнее, мечта), которую Бальмонт изложил в своих «Песнях мстителя». Только он уже не был этому рад. Как и не был рад исполнению другого «пророчества», из стихотворения «Будто бы Романовым».
Будет. Окончилось. Видим вас всех.
Вам приготовлена плаха.
Грех исказнителей - смертный есть грех.
Ждите же царствия страха.
При большевиках это «царствие страха» и наступило. Однако Константину Дмитриевичу не улыбалось в нем жить - при первой возможности он вновь эмигрировал. Правда, не бежал в тайне, как в царское время, а получив разрешение от наркома просвещения Анатолия Луначарского на заграничную поездку. Но если в царскую Россию он вернулся, в Россию советскую уже не возвращался. Поэта, конечно, тянуло на родину, но страх заставлял остаться во Франции, в стране, где он некогда написал те стихи, за которые его до сих пор любят поклонники революционеров. Интересно, вспоминал ли он здесь слова из стихотворения «Неизбежность»?..
Есть точный счет в течении всех дней,
Движенье в самой сущности возвратно.
Кинь в воздух кучу тяжкую камней,
Тебе их тяжесть станет вмиг понятна.

Могила Константина Бальмонта
Итак, подведем итог. Стихи Константина Дмитриевича Бальмонта были написаны, когда он фактически был революционером, и воспринимать их надо именно как памфлет революционера. За это в России тогда полагалось заключение. Но поэта ждало прощение, потому что царская власть объявила амнистию таким, как он. При царской власти Бальмонт в России жил, а при революционной власти жить не смог.
Соответственно, теперь духовные наследники революционеров начала прошлого века его помнят за те стихи, которые он хотел забыть.
Чем отличается умный монархист от глупого монархиста? Умный монархист, поддерживая идею монархии как принцип, при этом вполне может допускать, что конкретный персонаж, сидящий на троне, не является воплощением всех мыслимых и немыслимых добродетелей.
Оригинал взят у red_sovet в Современники о Николае II
Короткая подборка цитат современников о «страстотерпце» Николае II, которого так настойчиво пытаются реабилитировать в последние годы.
Из дневника профессора Б. В. Никольского, участника и идеолога монархического «Русского собрания»:
15 апреля: «…Я думаю, что царя органически нельзя вразумить. Он хуже, чем бездарен! Он - прости меня Боже, - полное ничтожество…
26 апреля: «…Мне дело ясно. Несчастный вырождающийся царь с его ничтожным, мелким и жалким характером, совершенно глупый и безвольный, не ведая, что творит, губит Россию. Не будь я монархистом - о, Господи! Но отчаяться в человеке для меня не значит отчаяться в принципе»…
Из дневника М.О.Меньшикова за 1918 г.:
«…Не мы, монархисты, изменники ему, а он нам. Можно ли быть верным взаимному обязательству, к-рое разорвано одной стороной? Можно ли признавать царя и наследника, которые при первом намеке на свержение сами отказываются от престола? Точно престол — кресло в опере, к-рое можно передать желающим».
«…При жизни Николая II я не чувствовал к нему никакого уважения и нередко ощущал жгучую ненависть за его непостижимо глупые, вытекающие из упрямства и мелкого самодурства решения. Ничтожный был человек в смысле хозяина. Но все-таки жаль несчастного, глубоко несчастного человека: более трагической фигуры „человека не на месте“ я не знаю…»
С.Ю. Витте: «Неглупый человек, но безвольный» /Витте С.Ю. Воспоминания. М., 1960. Т.2. С. 280.
А.В. Богданович: «Безвольный, малодушный царь» /Богданович А.В. Три последних самодержца. М., 1990. С. 371.
А.П. Извольский: «Он обладал слабым и изменчивым характером, трудно поддающимся точному определению» / Извольский А.П. Воспоминания. Мн., 2003. С. 214.
С.Д. Сазонов, бывший министр иностранных дел, 3 августа 1916 г. в беседе с М. Палеологом: «Император царствует, но правит императрица, инспирируемая Распутиным» /Палеолог М. Указ. соч., с. 117.
И даже антисоветчик Бальмонт в 1906 г.:
Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима,
Наш царь – кровавое пятно
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму - темно.
Наш царь - убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь - висельник, тем низкий вдвое,
Что обещал, но дать не смел.
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждет.
Кто начал царствовать - Ходынкой,
Тот кончит - встав на эшафот.
Финальную точку в описании «царя-батюшки» ставит цитата из воспоминаний известного юриста и члена Государственного совета Российской империи, Анатолия Фёдоровича Кони:
«Его взгляд на себя, как на провиденциального помазанника божия, вызывал в нем подчас приливы такой самоуверенности, что ставились им в ничто все советы и предостережения тех немногих честных людей, которые еще обнаруживались в его окружении…
Трусость и предательство прошли красной нитью через всю его жизнь, через все его царствование, и в этом, а не в недостатке ума и воли, надо искать некоторые из причин того, чем закончилось для него и то, и другое… Отсутствие сердца и связанное с этим отсутствие чувства собственного достоинства, в результате которого он среди унижений и несчастья всех близко окружающих продолжает влачить свою жалкую жизнь, не сумев погибнуть с честью.»