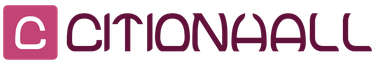Слов таких чтоб ими. Цельный человек с противоречивой судьбой. Книга «Фикрят Табеев. Судьбе благодаря и вопреки»
Нет слов таких, чтоб ими передать
Всю нестерпимость боли и печали,
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим по Вас, товарищ Сталин.
В том же духе высказались тогда и другие, самые известные в то время советские поэты:
Обливается сердце кровью...
Наш родимый, наш дорогой!
Обхватив твое изголовье,
Плачет Родина над тобой.
В этот час величайшей печали
Я тех слов не найду,
Чтоб они до конца выражали
Всенародную нашу беду.
Это восьмистишие легко принять за отрывок из одного стихотворения, сочиненного одним поэтом. Между тем первые его четыре строки принадлежат Ольге Берггольц, а вторые - Твардовскому.
Процитировав их рядом со своими (разумеется, не так, как это сделал я, а порознь) и добавив к ним еще одно, мало от них отличающееся четверостишие М. Исаковского, Симонов сразу отметает естественно возникающее предположение, что схожесть, да и не шибко высокий поэтический уровень этих стишков объясняется тем, что дирижировала хором этих «хороших и разных» поэтов одна и та же дирижерская палочка.
Схожесть стихов была рождена не обязанностью их написать - их можно было не писать, а глубоким внутренним чувством огромности потери, огромности случившегося. У нас были впереди потом еще долгие годы для того, чтобы попробовать разобраться в том, что это была за потеря, и лучше или хуже было бы - я не боюсь задавать себе этот достаточно жестокий вопрос - для всех нас и для страны, если бы эта потеря произошла не тогда, а еще позже. Во всем этом предстояло разбираться, особенно после XX съезда, но и до него тоже.
Однако сама огромность происшедшего не подлежала сомнению, и сила влияния личности Сталина и всего порядка вещей, связанного с этой личностью, для того круга людей, к которому я принадлежал, тоже не подлежала сомнению. И слово «потеря» уживалось со словом «печаль» без насилия авторов над собою в тех стихах, которые мы тогда написали.
(К. Симонов. Истории тяжелая вода. Стр. 485).
Точно так же, в тех же выражениях, теми же словами объясняет Симонов, ЧТО побудило его сочинить и напечатать тот злополучный абзац в появившейся 19 марта передовой статье «Литературной газеты»:
Первым, главным чувством было то, что мы лишились великого человека. Только потом возникло чувство, что лучше бы лишиться его пораньше, тогда, может быть, не было бы многих страшных вещей, связанных с последними годами его жизни. Но что было, то было... Первое чувство грандиозности потери меня не покидало долго, в первые месяцы оно было особенно сильным. Очевидно, под влиянием этого чувства я вместе с еще одним литератором, любившим демонстрировать всю жизнь решимость своего характера, но в данном случае при возникновении опасности немедленно скрывшимся в кустах, сочинил передовую статью, опубликованную в «Литературной газете» девятнадцатого марта пятьдесят третьего года... Передовая называлась «Священный долг писателя», и... первое, что вменялось писателям как их священный долг, было создание в литературе образа Сталина. Никто ровным счетом не заставлял меня это писать, я мог написать все это и по-другому, но написал именно так, и пассаж этот принадлежал не чьему-либо иному, а именно моему перу. Мною же был задан и общий тон этой передовой...
На мой тогдашний взгляд, передовая была как передовая, я не ждал от нее ни добра, ни худа, в основу ее легло мое выступление на происходившем перед этим митинге писателей, смысл которого в основном совпадал со смыслом передовой. Однако реакция на эту передовую оказалась очень бурной.
(Там же. Стр. 502-503).
«Очень бурной» - это слишком слабо сказано. Скандал разразился неимоверный. И слух об этом, где-то там, на самом верху разразившемся скандале (это я уже могу сказать, основываясь на собственной памяти) стал тогда одним из самых громких сигналов, возвещающих о близости грядущих перемен.
Номер с передовой «Священный долг писателя» вышел в четверг. Четверг после его выхода я провел в редакции, готовя следующий номер, и глядя на ночь в пятницу уехал за город, на дачу, чтобы пятницу, субботу и воскресенье писать там, а утром в понедельник приехать в редакцию и с самого утра делать вторничный номер. Телефона на даче не было, и я вернулся в понедельник утром в Москву, ничего ровным счетом не ведая.
Тут такое было, - встретил меня мой заместитель Косолапов, едва я успел взять в руки субботний номер, которого еще не читал. - А лучше вам расскажет об этом Сурков, вы ему позвоните, он просил позвонить, как только вы появитесь.
Я позвонил Суркову, мы встретились, и выяснилось следующее: Никита Сергеевич Хрущев, руководивший в это время работой Секретариата ЦК, прочитавши не то в четверг вечером, не то в пятницу утром номер с моей передовой «Священный долг писателя», позвонил в редакцию, где меня не было, потом в Союз писателей и заявил, что считает необходимым отстранить меня от руководства «Литературной газетой», не считает возможным, чтобы я выпускал следующий номер. Впредь, до окончательного решения вопроса - надо полагать, в Политбюро, это уж я додумал сам, - пусть следующий номер, а может быть, и следующие номера читает и подписывает Сурков как исполняющий обязанности Генерального секретаря Союза писателей.
Из дальнейшего разговора Сурков выяснил, что все дело в передовой «Священный долг писателя», в которой я призывал писателей не идти вперед, не заниматься делом и думать о будущем, а смотреть только назад, только и делать, что воспевать Сталина, - при такой позиции не может быть и речи, чтобы я редактировал газету. По словам Суркова - не помню, прямо говорившего с Хрущевым или через вторых лиц, - Хрущев был крайне разгорячен и зол.
Я лично, - сказал Сурков, - ничего такого в этой передовой не увидел и не вижу. Ну, неудачная, ну действительно там слишком много отведено места тому, чтобы создавать произведения о Сталине, что это самое главное. В конце концов, что тут такого. Можно в других передовых статьях снять этот ненужный акцент на прошлом. Сначала хотел послать к тебе гонца, вызвать тебя, а потом решил не расстраивать, может, за это время все обойдется. Номер, как мне сказал Косолапов, был готов, я приехал, посмотрел его и подписал. Фамилию твою не требовали снимать, требовали только, чтоб я прочитал и подписал номер. Вот и подумал, стоит ли выбивать тебя из колеи, ты сидишь там, пишешь. Вернешься в понедельник, может, к этому времени все утрясется.
Так оно в результате и вышло. На каком-то этапе, не знаю где, в Секретариате или в Политбюро, все, в общем, утряслось. Когда Сурков при мне позвонил в агитпроп, ему сказали, чтобы я ехал к себе в редакцию и выпускал очередной номер. Тем дело на сей раз и кончилось. Видимо, это был личный взрыв чувств Хрущева, которому тогда, в пятьдесят третьем году, наверное, была уже не чужда мысль через какое-то время попробовать поставить точки над «i» и рассказать о Сталине то, что он счел нужным рассказать на XX съезде. Естественно, что при таком настроении передовая под названием «Священный долг писателя» с призывом создать эпохальный образ Сталина попала ему, как говорится, поперек души. И хотя, видимо, его склонили к тому, чтобы мер, в горячке предложенных им, не принимать, невзлюбил он меня надолго, на годы, вплоть до появления в печати «Живых и мертвых», считая меня одним из наиболее заядлых сталинистов в литературе.
(Там же. Стр. 504-505).
Последняя реплика предполагает, что на самом деле никаким сталинистом он, конечно, не был. Но это - как посмотреть, от чего отталкиваться, с кем сравнивать.
со дня рождения Константина Симонова
«Танки у села Корпеча стоят в грязи, а дождь всё льёт…»
К ак врезалось в память ещё со школьных лет - так в памяти и остаётся:
Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди…
Написано осенью сорок первого. Самое, пожалуй, трагичное время Великой Отечественной. Автор - военный корреспондент газеты «Правда» Константин (Кирилл) Михайлович Симонов.
Нас пули с тобою пока ещё милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился…
ТА война закончилась уже семьдесят лет назад - а строчки эти без дрожи в голосе читать до сих пор невозможно. Это называется простым и пафосным, но в этом конкретном случае совершенно справедливым словом ШЕДЕВР. Шедевр, потому что написан ТАЛАНТОМ.
 Да, время не творит себе кумиров. Типичнейшее тому подтверждение - он, Константин Симонов. Во времена Советской власти - не просто знаменитейший, а культовый писатель. Не просто тогдашний литературный «генерал», не просто обласканный властями, а и сам - практически символ ТОЙ власти (Только Сталинских, не считая других, премий - ШЕСТЬ! Кто из литераторов - да и не только литераторов! - мог похвастаться ТАКИМ количеством ТАКИХ премий?!). Депутат Верховного Совета, главный редактор сначала «Нового мира», потом - «Литературной газеты», заместитель генерального секретаря правления Союза писателей, член президиума Советского комитета защиты мира, член комитета по Сталинским премиям, и тэ дэ, и тэ пэ…
Да, время не творит себе кумиров. Типичнейшее тому подтверждение - он, Константин Симонов. Во времена Советской власти - не просто знаменитейший, а культовый писатель. Не просто тогдашний литературный «генерал», не просто обласканный властями, а и сам - практически символ ТОЙ власти (Только Сталинских, не считая других, премий - ШЕСТЬ! Кто из литераторов - да и не только литераторов! - мог похвастаться ТАКИМ количеством ТАКИХ премий?!). Депутат Верховного Совета, главный редактор сначала «Нового мира», потом - «Литературной газеты», заместитель генерального секретаря правления Союза писателей, член президиума Советского комитета защиты мира, член комитета по Сталинским премиям, и тэ дэ, и тэ пэ…
С другой стороны, жёсткий литературный чиновник, пусть не яростный, но всё равно гонитель Ахматовой, Зощенко, так называемых «косомополитов»… Именно его подпись стояла под письмом редколлегии «Нового мира», отвергнувшего роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
 - Классическая фигура для примера категории «гений и злодейство»!
- говорю моему давнему другу, культурологу С.В. Коновалову.
- Классическая фигура для примера категории «гений и злодейство»!
- говорю моему давнему другу, культурологу С.В. Коновалову.
Соглашусь, но только отчасти. В то, советское время существовали очень жёсткие рамки, которые определяли норму поведения не только «простых-рядовых», но и Личностей (а Симонов был, вне всякого сомнения, именно Личностью). Даже не так: Личностй прежде всего. Поскольку от «простых-рядовых» никаких неожиданных поступков ждать не приходится, зато именно от Личностей - сколько угодно. Поэтому и регламентировали.
 - По-моему, вы лукавите, Сергей Владимирович. Взять, например, упомянутую мною историю с Ахматовой и Зощенко. Разве по отношению к ним Симонов не выступил именно истинным злодеем, для которого названные вами «рамки» были всего лишь пустой формальностью?
- По-моему, вы лукавите, Сергей Владимирович. Взять, например, упомянутую мною историю с Ахматовой и Зощенко. Разве по отношению к ним Симонов не выступил именно истинным злодеем, для которого названные вами «рамки» были всего лишь пустой формальностью?
Что касается Зощенко, то - пожалуй. В отношении же Ахматовой… Анна Андреевна и сама была, мягко говоря, совсем не подарок. И очень любила представать перед своими поклонниками в виде этакой «оскорблённой добродетели». Так что здесь ещё можно разбираться.
- А космополиты?
А что «космополиты»? Да, их Симонов, как говорится, обличал. Положение обязывало. Точнее, вынужден был обличать. Но почему-то мы забываем, что одновременно он многим из этих самых « космополитов» и помогал: устраивал на работу, решал вопросы с жильём, наконец, просто давал деньги. Это как? И уж коли по справедливости, то давайте не будем лепить из него такого уж законченного монстра! Возвращение читателю романов Ильфа и Петрова, выход в свет булгаковского «Мастера и Маргариты» и хэмингуэевского «По ком звонит колокол», защита Лили Брик, которую высокопоставленные «историки литературы» решили вычеркнуть из биографии Маяковского, первый полный перевод пьес Артура Миллера и Юджина О’Нила, выход в свет первой повести Вячеслава Кондратьева «Сашка» - вот далёкий от полноты перечень «геракловых подвигов» Симонова, только тех, что достигли цели и только в области литературы.
 А ведь были ещё и участие в «пробивании» спектаклей в «Современнике» и Театре на Таганке, первая посмертная выставка Татлина, восстановление выставки «ХХ лет работы» Маяковского, участие в кинематографической судьбе Алексея Германа и десятков других кинематографистов, художников, литераторов. Так что, как видите, и заслуг у него было немало. Только Симонов их не афишировал. Поступал в данных случаях как настоящий мужчина.
А ведь были ещё и участие в «пробивании» спектаклей в «Современнике» и Театре на Таганке, первая посмертная выставка Татлина, восстановление выставки «ХХ лет работы» Маяковского, участие в кинематографической судьбе Алексея Германа и десятков других кинематографистов, художников, литераторов. Так что, как видите, и заслуг у него было немало. Только Симонов их не афишировал. Поступал в данных случаях как настоящий мужчина.
- Небольшое отступление: а вот Шолохов на Ахматовой не «оттоптался». Даже напротив: помог ей сборник выпустить! И против «космополитов» не выступал. И даже от очень «сладкого» поста генерального секретаря Союза писателей отказался!
Что тут можно сказать? Хитрый казак!
- Говоря о Симонове, невозможно обойти тему его отношения к Сталину…
Это отношение, на мой взгляд, совершенно конкретно характеризует стихотворение, которое Симонов написал на кончину «Вождя и Учителя»:
Нет слов таких, чтоб ими описать
Всю нетерпимость горя и печали.
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим по Вас, товарищ Сталин...
 По-моему, никаких пояснений не требуется.
По-моему, никаких пояснений не требуется.
- Но это отношение всё-таки менялось…
Да, менялось на протяжении всей жизни Константина Михайловича - и я не вижу здесь никакого постыдства, никакого приспособленчества! НОРМАЛЬНЫЙ человек имеет право менять свои точки зрения! И вот здесь уместно привести кусок из его статьи «Размышления о Сталине»:
«За некоторые вещи из происходивших тогда на мне лежит горькая доля моей личной ответственности, о которой я и говорил, и писал потом в печати и о которой скажу еще и в этих записках, когда буду писать главу о сорок девятом годе. Но антисемитом я, разумеется, не был…»
Заметьте: это было написано в марте 1979 года, менее чем за полгода до кончины. То есть, что-то скрывать или в чём-то оправдываться Симонову было уже совершенно без надобности.
- И всё же: кем был Сталин для Симонова?
Если коротко, то несомненно фигурой одновременно великой и страшной.
- Великой и страшной… Как вы считаете, поэзия Симонова остаётся востребованной?
 - Несомненно. В первую очередь, его военные стихи и поэмы. Но кроме поэзии есть ещё и проза. В первую очередь, трилогия «Живые и мёртвые», ставшая классикой отечественной литературы о Великой Отечественной войне.
- Несомненно. В первую очередь, его военные стихи и поэмы. Но кроме поэзии есть ещё и проза. В первую очередь, трилогия «Живые и мёртвые», ставшая классикой отечественной литературы о Великой Отечественной войне.
А вот у пьес - судьба печальная. Их время прошло. И в заключение - о личном: лично мне очень нравятся его дневниковые записи - «Разные дни войны». Не знаю, читают ли их и будут ли читать, но я это делаю с большим удовольствием. Великолепные, искренние тексты.
- Спасибо, Серей Владимирович, за, как всегда, интересный разговор!
И в заключение. Нет-нет, я прекрасно понимаю: другие времена, другие герои, другие образцы для подражания и уважения. Литераторы тоже другие, и совсем не сказать, что лучшие… Да и соцреализм теперь уже совсем не наше творческое направление. В нашей сегодняшней литературе, по-моему, ВООБЩЕ нет никаких направлений… Отсюда горький и стыдный вопрос: мы когда-нибудь поумнеем? Когда-нибудь перестанем быть иванами, родства не помнящими (а ведь Симонова-то забыли!)? Что говорите? «Вряд ли»? Ну, что ж. Похоже, в этом и заключается наш, извините за неприличное слово, менталитет…
Алексей Курганов
Все фотографии взяты из открытых интернет-источников
Редактировавшим тогда «Правду»,
мы, писатели, - твердо помню, что это были Фадеев, Корнейчук, я - не помню
точно, были ли вместе с нами Сурков и Твардовский, - поехали в редакцию
«Правды». Помимо всего, что, казалось бы, полностью забило голову в эти
часы, тех событий и перемен; помимо того, что и сам характер заседания, и
назначения, произведенные на нем, говорили о том, что Сталин вот-вот умрет,
у меня было еще одно чувство, от которого я пробовал избавиться и не мог: у
меня было ощущение, что появившиеся оттуда, из задней комнаты, в президиуме
люди, старые члены Политбюро, вышли с каким-то затаенным, не выраженным
внешне, но чувствовавшимся в них ощущением облегчения. Это как-то
прорывалось в их лицах, - пожалуй, за исключением лица Молотова -
неподвижного, словно окаменевшего. Что же до Маленкова и Берии, которые
выступали с трибуны, то оба они говорили живо, энергично, по-деловому.
Что-то в их голосах, в их поведении не соответствовало преамбулам,
предшествовавшим тексту их выступлений, и таким же скорбным концовкам этих
выступлений, связанным с болезнью Сталина. Было такое ощущение, что вот там,
в президиуме, люди освободились от чего-то давившего на них, связывавшего
их. Они были какие-то распеленатые, что ли. Может быть, я думал не теми
словами, которыми я сейчас пишу об этом, даже наверное. Я думал осторожней и
неувереннее. Но несомненно, что я об этом думал. В основе своей это не
сегодняшние, а тогдашние чувства, запомнившиеся потом на всю жизнь.
Минут через двадцать мы были в «Правде» и сидели в кабинете у Шепилова.
Разговор шел какой-то приглушенный, особенно говорить никому из нас не
хотелось. Говорили о том, что надо подумать над тем, чтобы известные
писатели выступили с рядом статей в «Правде» на различные темы, что это
необходимо, что надо составить план таких статей, и так далее, и тому
подобное. Но говорилось все это так, словно необходимо было об этом
говорить, но говорится это немножко раньше, чем нужно, потому что, хотя
определен новый состав Президиума ЦК и Секретариата, хотя сформирован Совет
Министров с Маленковым во главе, хотя Ворошилов стал Председателем
Президиума Верховного Совета - все это так, но для того, чтобы писать, нужна
какая-то определенность в том, что должны написать писатели, и в том, что
хотят от них. Определенности не было, потому что Сталин был еще жив или
считалось, что он еще жив. Так за этим разговором прошло минут сорок, и не
знаю, сколько бы тянулся он еще - вялый и неопределенный, - когда зазвонила
вертушка. Шепилов взял трубку, сказал в нее несколько раз: «Да, да», - и,
вернувшись к столу, за которым мы сидели, сказал: «Позвонили, что товарищ
Сталин умер».
И несмотря на все предыдущее - на заседание, после которого мы приехали сюда, на решения, которые были приняты, все равно что-то в нас, во всяком случае во мне, содрогнулось в эту минуту. Что-то в жизни кончилось. Что-то другое, неизвестное еще, началось. Началось не тогда, когда в связи с тем-то и тем-то оказалось необходимым назначить Маленкова Председателем Совета Министров еще при жизни Сталина и он был им назначен, - не тогда, а вот сейчас, после этого звонка.
Не помню, кто что взял на себя, что собрался делать и написать, - я сказал,
что напишу стихи, я не знал, сумею ли написать эти стихи, но знал, что ни на
что другое в этот момент не способен.
Не задерживаясь в «Правде», я поехал домой. «Литературная газета» выходила
только послезавтра, седьмого, и я, вернувшись домой, позвонил своему
заместителю Борису Сергеевичу Рюрикову, что приеду часа через два, заперся у
себя в комнате и стал писать стихи. Написал первые две строфы и вдруг
неожиданно для себя, сидя за столом, разрыдался. Мог бы не признаваться в
этом сейчас, потому что не люблю ничьих слез - ни чужих, ни собственных, -
но, наверное, без этого трудно даже самому себе объяснить меру потрясения. Я
плакал не от горя, не от жалости к умершему, это не были сентиментальные
слезы, это были слезы потрясения. В жизни что-то так перевернулось,
потрясение от этого переворота было таким огромным, что оно должно было
проявиться как-то и физически, в данном случае судорогой рыданий, которые
несколько минут колотили меня. Потом я дописал стихи, отвез их в «Правду» и
поехал в «Литературную газету», чтобы рассказать Рюрикову о том, что было в
Кремле. Завтра нам предстояло делать номер газеты, и ему надо было это знать
- чем раньше, тем лучше.
Передо мной лежит сейчас пачка сложенных тогда, в пятьдесят третьем году, материалов и документов тех мартовских дней. Все засунуто в одну, много лет пролежавшую папку: траурная повязка, с которой стоял в почетном карауле, и пропуск на Красную площадь с надпечаткой «проход всюду»; стенограмма одного из двух писательских траурных собраний, на котором я выступал вместе со многими другими, и вырезка газетного отчета о другом писательском собрании, где я читал свои, плохие, несмотря на рыдания, стихи; пачка газет за те дни - «Правды», «Известий», «Литературки» и других.
Потом, спустя годы, разные писатели разное и по-разному писали о Сталине. Тогда же говорили, в общем, близко друг к другу - Тихонов, Сурков, Эренбург. Все сказанное тогда очень похоже. Может быть, некоторое различие в лексиконе, да и то не слишком заметное. В стихах тоже поражающе похожие ноты. Лучше всех - это неудивительно, учитывая меру таланта, - написал все-таки Твардовский; сдержаннее, точнее. Почти все до удивления сходились на одном:
В этот час величайшей печали
Я тех слов не найду,
Чтоб они до конца выражали
Всенародную нашу беду...
Это Твардовский.
Нет слов таких, чтоб ими передать
Всю нестерпимость боли и печали,
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим по Вас, товарищ
Сталин!
А это Симонов.
Обливается сердце кровью...
Наш родимый, наш дорогой!
Обхватив твое изголовье,
Плачет Родина над Тобой.
Это Берггольц.
И пусть в печали нас нельзя утешить,
Но он, Учитель, нас учил всегда:
Не падать духом, голову не вешать,
Какая б ни нагрянула беда.
А это Исаковский.
Похоже, очень похоже написали мы тогда эти стихи о Сталине. Ольга Берггольц, сидевшая в тридцать седьмом, Твардовский - сын раскулаченного, Симонов - дворянский отпрыск и старый сельский коммунист Михаил Исаковский, Можно бы к этому добавить и другие строки из других стихов людей с такими же разнообразными биографиями, связанными с разными поворотами судеб личности в сталинскую эпоху. Тем не менее схожесть стихов была рождена не обязанностью их написать - их молено было не писать, а глубоким внутренним чувством огромности потери, огромности случившегося. У нас были впереди потом еще долгие годы для того, чтобы попробовать разобраться в том, что это была за потеря, и лучше или хуже было бы - я не боюсь задавать себе этот достаточно жестокий вопрос - для всех нас и для страны, если бы эта потеря произошла не тогда, а еще позже. Во всем этом предстояло разбираться, особенно после XX съезда, но и до него тоже.
Однако сама огромность происшедшего не подлежала сомнению, и сила влияния личности Сталина и всего порядка вещей, связанного с этой личностью, для того круга людей, к которому я принадлежал, тоже не подлежала сомнению. И слово «потеря» уживалось со словом «печаль» без насилия авторов над собою в тех стихах, которые мы тогда написали. «Так это было на земле», -скажет немногим позже Твардовский, одним из самых первых и много глубже других начавший думать об этом.
Сейчас, еще раз перелистав газеты тех дней, хочу вернуться к своим
размышлениям о том, когда же все-таки умер Сталин - сразу и нас готовили к
этому, или он умер до того, как собралось совместное заседание, произведшее
новые назначения, или он умер действительно тогда, когда при нас раздался
звонок в «Правду» Шепилову, около десяти часов вечера пятого марта. Не хочу
строить догадок на материале, недоступном другим людям, но вот читаю
постановление совместного заседания Центрального Комитета, Совета Министров
и Президиума Верховного Совета, появившееся на следующий день после
сообщения о смерти Сталина, вижу, что в преамбуле о смерти Сталина не
говорится, о смерти его говорилось накануне в обращении ко всем членам
партии и всем трудящимся Советского Союза, а преамбула постановления
составлена так, что неизвестно, в какой день произошло это совместное
заседание - предшествовало оно смерти Сталина или состоялось после его
смерти. Процитирую эту преамбулу, она очень интересна с этой точки зрения.
«Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет
Министров Союза ССР, Президиум Верховного Совета СССР в это трудное для
нашей
-232-
партии и страны время считают важнейшей задачей партии и правительства -
обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны, что
в свою очередь требует величайшей сплоченности руководства, недопущения
какого-либо разброда и паники, с тем, чтобы таким образом безусловно
обеспечить успешное проведение в жизнь выработанной нашей партией и
правительством политики - как во внутренних делах нашей страны, так и в
международных делах. Исходя из этого и в целях недопущения каких-либо
перебоев по руководству деятельностью государственных и партийных органов,
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет
Министров Союза ССР и Президиум Верховного Совета признают необходимым
осуществить ряд мероприятий по организации партийного и государственного
руководства».
На обратной стороне этой страницы «Правды», где это напечатано, опубликовано
постановление об установлении саркофага Сталина рядом с саркофагом Ленина,
постановление о сооружении пантеона, постановление о трауре - шестого,
седьмого, восьмого и девятого марта. Там же извещение комиссии по
организации похорон о доступе в Колонный зал и времени похорон, первый
репортаж из Колонного зала «У гроба И.В. Сталина». Но в преамбуле
постановления о мероприятиях «по организации партийного и государственного
руководства» ни упоминания имени Сталина, ни упоминания о том, жив он еще
или умер, нет.
Логика заставляет предполагать, что все было так, как и было нам преподано,
то есть совместное заседание было собрано, когда Сталин находился в
абсолютно безнадежном состоянии, его смерти ждали с минуты на минуту.
Постановление было выработано и готово до последней запятой и точки,
публикацию его, видимо, не собирались откладывать в том случае, если бы
Сталин еще один, два или несколько дней находился при смерти. И может быть,
опубликовали бы его даже не седьмого, а шестого, сразу после пленума, рядом
с безнадежным бюллетенем. Но Сталин умер почти сразу же после окончания
заседания, и поэтому было принято решение сначала опубликовать обращение к
партии и народу о смерти Сталина, а на следующий день - постановление о
персональном составе органов власти и о частичной их реорганизации. Логика
допускает такую возможность, хотя и не исключает до конца разных иных
предположений.
-233-
А теперь вернусь к своим записям пятьдесят третьего года, вернее, к той
последней записи, где идет речь о Колонном зале и похоронах Сталина:
«Хотя мне сообщили по телефону, что надо прийти в Колонный зал около трех
часов дня, я с большим трудом добрался туда только около пяти. Подойти к
Колонному залу пешком было уже почти невозможно...»
Добавлю к тогдашней записи, что жил в ту пору на углу Пушкинской площади, но
пройти вниз ни по улице Горького, ни по Дмитровке, ни по Петровке так и не
удалось. На Трубной площади мы столкнулись в толпе с тогдашним министром
лесной промышленности Георгием Михайловичем Орловым, с которым знали друг
друга, потому что воевали на страницах «Литературной газеты» по проблемам
бумаги. Дальше пошли вместе вниз по Неглинной и, несмотря на наши цековские
удостоверения, едва продрались через ту молчаливую сумятицу, которая царила
на улицах Москвы: пролезали под грузовиками, перегораживавшими Неглинную,
потом перелезали через грузовики, снова ее перегораживавшие, оказывались так
стиснутыми со всех сторон, что не могли вынуть из карманов документы,
подавались с толпой людей то вперед, то назад и выбрались из давки и
толкучки только под самый конец где-то у задов Малого театра. Не знаю, как в
другие часы, а в те два часа, что мы пробирались, толпа была не обозленная
толкучкой, не злая, но горько-молчаливая, хотя при этом такая мощная в
едином упорстве своего движения туда, поближе к Колонному залу, что милиция
растерянно себя вела перед молчаливым и единым упорством этого движения.
Возвращаюсь к записи:
«В комнате позади президиума людям накалывали на рукав повязки. Одни уходили
в почетный караул, другие возвращались из него. Так прошло, наверное, около
часа. Наконец, очередь дошла до нас. Я стоял рядом с незнакомыми мне людьми,
с какими-то двумя женщинами. Мы с ними вышли и стали справа у изголовья. Я
повернул голову и, только уже стоя там, увидел лицо лежавшего в гробу
Сталина. Лицо его было очень спокойное, нисколько не похудевшее и не
изменившееся. Волосы в последнее время начали у него немножко редеть (это
бывало видно, когда он ходил во время заседаний и, проходя близко от тебя,
поворачивался боком). Но сейчас это было незаметно, волосы спокойно лежали,
откинутые назад, и уходили в подушку. Потом,
-234-
когда мы, сменяясь, стали обходить гроб кругом, я увидел лицо Сталина
справа, с другой стороны, и снова подумал, что лицо это совсем не
переменилось, не похудело и что оно очень спокойное, совсем не стариковское,
еще молодое. Уже позже, вернувшись из Колонного зала, я подумал, что людям,
не видевшим в последние годы Сталина или видевшим его только издали и
знавшим его по портретам главным образом военных и предвоенных лет, теперь
там, в Колонном зале, когда они вдруг увидели его близко, могло показаться,
что он постарел, что болезнь изменила его лицо. Но на самом деле это было не
так, болезнь ничего не переменила в его лице. Руки спокойно лежали поверх
серого френча.
КНИГА ХОРОШО ПОКАЗЫВАЕТ, КАКОГО МАСШТАБА ЭТА ЛИЧНОСТЬ
Шамиль Агеев - куратор проекта, книги «Фикрят Табеев. Судьбе благодаря и вопреки», председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ, доктор экономических наук:
С большим удовольствием поздравлю с юбилеем Фикрята Ахмеджановича. Мы знакомы с ним давно, с тех давних пор, когда вместе летели в самолете, сидели друг напротив друга, и я читал книжку… В 1974 году, когда я был первым секретарем Казанского горкома ВЛКСМ, именно Табеев поручил мне заняться строительством Молодежного центра. В нем тогда были построены всего лишь фундамент и три этажа. Но я сдал МЦ через два года - практически без копейки денег построили! Позже мы много раз пересекались с Табеевым - и на КАМАЗе, и когда он был послом в Афганистане, и когда работал в правительстве России… При Табееве была особая обстановка в республике - все смело высказывали свое мнение, он ничего и никого не боялся. И не боялся умных людей вокруг себя собирать. Поэтому сегодня так много людей всегда собираются на его юбилеи…
Сегодня торжества пройдут в постпредстве Татарстана в Москве. На них приглашен президент РТ Рустам Минниханов. Очень тепло всегда поздравляет Фикрята Ахмеджановича группа «ТАИФ». Обязательно будет на юбилее гендиректор ОАО «Татнефть» Шафагат Тахаутдинов - он отлично знает, сколько Табеев сделал для развития нефтяной промышленности в Татарстане. Кстати, Тахаутдинов очень помог с выпуском книги «Фикрят Табеев. Судьбе благодаря и вопреки».
Одна из причин, по которой мы взялись за выпуск этой книги, - граждане, особенно молодежь, должны знать о руководителях республики, на которых ложилась колоссальная ответственность, в том числе о Фикряте Табееве. Возглавлять регион - очень нелегкий труд. Правильные решения руководителя возвращаются сторицей, а вот неправильные…
Я очень рад, что книга получилась теплой, искренней, насыщенный интересными фактами, в том числе такими, о которых далеко не все знают. Я сам нашел в этой книге много нового для себя. Очень мне понравилось трепетное отношение Табеева к Казанскому университету, где он окончил истфилфак. Любовь к альма матер у Фикрята Ахмеджановича остается по сей день, он всегда помогал родному вузу. Еще он очень любил КАИ, потому что оттуда выходили боевые ребята. Всегда поддерживал ученых… Считал, что в каждом направлении науки у нас должно быть не хуже мирового уровня!
Особо хотел бы я отметить и главу о супруге Табеева - Дине Мухамедовне. Она всю жизнь была другом и поддержкой Фикряту Ахмеджановичу, умела создать семейный уют. Но при этом стала выдающимся ученым, профессором медицины…
Без отрыва прочитал я про афганский период жизни Табеева - колоссально сложный период! Сколько он там приобрел друзей и сколько нажил врагов… Потому что думал, как всегда, в первую очередь о деле, а не о себе…
Книга хорошо показывает, какого масштаба эта личность, какой он величайший организатор, при этом с заглядом на новое, с прекрасным видением перспективы… Хочу подчеркнуть, что Табеев, будучи на очень высоких постах, никого не сгноил - важнейшее качество для руководителя, у которого столь широкие полномочия.
Чтобы познакомить татарстанцев с этой очень интересной книгой, мы решили половину тиража - тысячу экземпляров - раздать по школам, другим учебным заведениям, библиотекам… Особо рекомендую прочитать эту книгу руководителям и политическим деятелям, а также тем молодым людям, которые мечтают стать лидерами.
С ИМЕНИ СТАЛИНА В СТРАНЕ НАЧИНАЛСЯ ДЕНЬ, ИМ И ЗАКАНЧИВАЛСЯ
…Для СССР и его граждан самым большим потрясением стала смерть в марте 1953 года «отца всех народов» Иосифа Виссарионовича Сталина . В те дни были опубликованы скорбные стихи Константина Симонова :
Нет слов таких, чтоб ими описать
Всю нетерпимость горя и печали.
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим по Вас, товарищ Сталин...
Я, как и многие, стоял в почетном карауле у портрета Сталина на траурном митинге по случаю его смерти. В те дни я был в Казани. А вот моя молодая жена уехала с подругами в Москву, чтобы проститься с Иосифом Виссарионовичем, оставив нашего грудного сына на попечение матери. Слава Аллаху, в страшную давку при похоронах она не попала. Я был против поездки, и это один из немногих случаев, когда она мое мнение проигнорировала. Вот вам и картина отношения к Сталину в тот период.
Мы выросли в стране, которой руководил он, без упоминания его имени тогда нельзя было себе представить ни одного торжества, ни одной важной статьи и так далее. Тогда ведь даже перед зданием Третьяковской галереи в Москве стоял памятник Сталину, выполненный в полный рост. С его имени в стране начинался день, им и заканчивался.
Конечно, мы многого тогда не знали — о ГУЛАГе и тому подобное. Но определенная напряженность общественной атмосферы ощущалась явственно. Еще в годы моего детства, в конце 1930-х, был период, когда мой отец - участник Гражданской войны, председатель сельсовета - уходя на работу, говорил матери: мол, не знаю, вернусь ли домой сегодня. Иногда они прощались, как в последний раз. Хотя отец мой и был беспартийным. Надо ли говорить, что в начале 1950-х в научной среде совершенно немыслимо было представить себе храбреца, дерзнувшего публично критиковать экономические соображения Сталина но поводу будущего общественного устройства. Так что вред, нанесенный им развитию гуманитарных наук, очевиден.
«СТАЛИН ПРИНЯЛ РОССИЮ С СОХОЙ И ОСТАВИЛ ЕЕ С АТОМНЫМ ВООРУЖЕНИЕМ»
Споры о Сталине не прекращаются до сих пор. Трудно, например, отрицать оценку, будто бы высказанную в его адрес Уинстоном Черчиллем : «Сталин принял Россию с сохой и оставил ее с атомным вооружением».
Про себя могу сказать одно: я не отношусь к числу сталинистов, хотя признаю величину личности этого человека, его исключительную роль в нашей победе над фашизмом. Очень трудно разделить его заслуги и дела, носящие характер преступных. И сегодня, когда продолжают открываться архивы сталинской поры, не перестаешь поражаться необъяснимой жестокости многих сталинских указаний. Я где-то читал, что Константин Симонов - достаточно близкий Сталину человек, член ЦК партии, раньше других начал знакомиться с документами о непосредственном участии Сталина в истории с «врачами-убийцами». И испытал шок. Когда он об этом рассказал товарищам по писательскому цеху Александру Фадееву и Александру Корнейчуку , те не могли поверить страшной правде о Сталине. Представьте теперь, какой силы удар испытали участники XX съезда партии во время речи Никиты Хрущева . Грех на Сталине лежит очень большой, страшный грех…
Кончина Сталина, а затем арест Лаврентия Берии в июне 1953 года означали конец целой эпохи и вступление страны в новую полосу своей истории…
ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПАРТИЙНОГО БОССА БЫЛО НЕ ПРИНЯТО
Летом 1960 года Семен Игнатьев (с 1957 года - первый секретарь Татарского обкома КПСС - ред. ) принял решение об уходе на пенсию, хотя ему было всего 55 лет. Вопрос подбора кандидатуры на роль первого секретаря Татарского обкома обсуждался в ЦК КПСС. В числе главных претендентов был Салих Батыев , занимавший на тот момент пост второго секретаря обкома…
По словам Табеева, республику Салих Галимзянович знал отлично и по праву мог претендовать па должность первого секретаря обкома. Но получилось иначе.
Вернувшись из Москвы, Семен Денисович сообщил Табееву, что, будучи в ЦК КПСС, он предложил именно его, Табеева, на пост главного партийного руководителя Татарии. Для 32-летнего Фикрята это было известием столь же лестным, сколь и шокирующим. Но отказываться от предложений партийного босса, тем более загодя — ведь окончательно все должен был решить пленум — в тех кругах не было принято.
Оценивая сегодня ту ситуацию, Фикрят Ахмеджанович считает, что Игнатьев разыграл для республики отличную шахматную комбинацию, соединив у ее руля напористость молодости в лице его, Табеева, и мудрость, а также необходимый политический консерватизм в лице Батыева, занявшего, также по рекомендации Игнатьева, пост председателя президиума Верховного Совета ТАССР.
И вот наступил день 28 октября 1960 года. Колонный зал казанского Дома офицеров (ныне — Казанская ратуша) собрал цвет коммунистов республики. Сегодня, спустя более полувека, сложно объяснить современному читателю всю важность и принципиальность происходившего события. Смена первого партийного руководителя республики означала примерно то же самое, что сегодня — это смена губернатора области или президента того же Татарстана. Добавьте к этому определенную нестабильность в положении руководителей всех рангов, имевшую место в хрущевские времена. И вообще, общество еще было как бы на перепутье: одни боялись без оглядки упоминать имена Сталина и Берии, другие надеялись на возврат прежних порядков, третьи хотели радикальных перемен.
ГЛАВНОЕ В ОСНОВНОМ РЕШАЛОСЬ КУЛУАРНО
В коридорах обкома в ожидании пленума росло напряжение. Партийная элита республики, говоря нынешними словами, оценивала рейтинги возможных претендентов, а также вероятность водворения на вершину республиканской власти очередного «варяга». Появившиеся в стране ростки демократии мало что меняли в партийных рядах. Как и раньше, главное в основном решалось кулуарно, а пленум был призван лишь утвердить решение, принятое «наверху». Но на этот раз все пошло по-другому.
На областных пленумах, как правило, присутствовали высокие гости из Москвы. На этот раз проводить пленум по освобождению Семена Игнатьева с поста первого секретаря республиканского обкома и выборам его нового руководителя приехал Петр Николаевич Поспелов - член РСДРП г 1916 года, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии первой степени, академик АН СССР, кандидат в члены президиума ЦК КПСС. Словом, серьезный политический тяжеловес, известный прежде преданностью Сталину и с легкостью поменявший свою точку зрения на него с приходом к власти Никиты Сергеевича Хрущева .
После оглашения повестки дня слово предоставили Поспелову. По давно отлаженной схеме он произнес положенный спич, затем сообщил собравшимся об освобождении Игнатьева по его просьбе от занимаемой должности, от имени ЦК партии поблагодарил его за проделанную работу и на этом покинул высокую трибуну.
В зале повисла тишина. После паузы, показавшейся очень долгой, поднялся сидевший в президиуме пленума но правую руку от московского гостя Игнатьев. Лицо его с крупными, словно вырубленными чертами не выдавало ни тени волнения. Он поблагодарил коммунистов республики за три года совместной работы, пожелал Татарии дальнейших успехов. И как-то без перехода спросил, обращаясь к залу, кого бы коммунисты республики хотели видеть на посту первого секретаря обкома.
От такого крутого поворота к демократии люди буквально растерялись. А как же привычная рекомендация сверху, почему промолчал Поспелов? А, может быть, во всем этом есть некий подвох, проверка? Словом, никто из присутствующих и не думал что-то промолвить.
Очевидно, прекрасно понимая ситуацию, Семен Денисович уже в более раскрепощенной форме снова предложил людям назвать человека, наиболее достойного стать его преемником. По залу зашелестели голоса переговаривающихся между собой, затем сразу несколько человек выкрикнули: «Табеева!»
Хорошо, одна кандидатура есть,— сказал Игнатьев.— Еще какие будут предложения?
Других предложений не последовало. После этого по регламенту надлежало бы представить кандидата собравшимся, дать ему характеристику, слово для выступления. Но из зала кричали, что ничего этого в случае с Фикрятом Табеевым делать не нужно. Тогда Игнатьев предложил участникам пленума проголосовать за единственного кандидата. Открытое голосование продемонстрировало лес рук.
Единогласно, — подвел черту Игнатьев.
ХРУЩЕВ ХОТЕЛ РАССТАТЬСЯ С ТЕНЯМИ СТАЛИНСКОГО ПРОШЛОГО
Конечно, надо понимать, что такое нестандартное ведение пленума не быто явлением спонтанным. Кандидатов на пост первого секретаря обкома республики, которая становилась нефтяным «кормильцем» Союза, не то чтобы обсуждали на самом высоком уровне, их биографии и досье исследовались буквально под лупой и на Старой площади, и на Лубянке. Взвешивались все «за» и «против». Но... В данном случае, очевидно, решающее значение сыграл настрой Хрущева на омоложение состава партийных и хозяйственных кадров. Он хотел расстаться с тенями сталинского прошлого и создать свою команду, команду людей, преданных ему.
По причине возраста была, очевидно, отклонена и кандидатура Батыева, который был старше Табеева на 17 лет. Хотя что такое 49 лет? Для политика — возраст расцвета. Впрочем, Салих Галимзянович это и доказал. С 1960 по 1983 годы, занимая пост председателя президиума Верховного Совета ТАССР, являясь также заместителем председателя президиума Верховного Совета РСФСР, он внес значительный вклад в развитие Казани и республики. Особой его заслугой является работа во главе комиссии по реабилитации политзаключенных и освобождению жертв политических репрессий, в том числе по реабилитации поэта Мусы Джалиля и присуждении ему звания Героя Советского Союза. Не случайно в 2011 году президент РТ, государственный советник РТ, президиум Государственного Совета РТ предложили увековечить память Салиха Батыева, присвоив его имя одной из новых улиц Казани.
В то же время было понятно, что столь молодому секретарю, каким был Табеев, будет нелегко утверждаться в своей роли. И своеобразным авансом уверенности для него должно было стать это демократичное выдвижение: сами, мол, предложили, сами выбирали! И тот же Салих Батыев стал одним из тех, кто на первых порах подставил дружеское плечо молодому первому секретарю. С того времени рука об руку Табеев и Батыев почти 20 лет работали на благо народов Татарстана. Фикрят Ахмеджанович даже спустя полвека с благодарностью вспоминал этого умного, скромного и трудолюбивого человека.
Продолжение следует .
|
Справка Фикрят Ахмеджанович Табеев(тат. Fikrət Əxmətcan uğlı Tabiev, Фикрәт Әхмәтҗан улы Табиев). Отец — Ахмеджан Мухамеджанович Табеев, старший из четырех братьев. Участник Гражданской войны, был командиром отряда красноармейцев. Воевал с басмачеством в Средней Азии. Был личным связистом Михаила Фрунзе. Погиб на фронте зимой 1942 года. Мать — Сабира Музиповна Табеева (Бегишева). В 1951 году закончил Казанский государственный университет, с 1951 по 1957 годы — на преподавательской работе, с 1957 года — на партийной. С 1959 года второй, а с 1960 года первый секретарь Татарского обкома КПСС. Был самым молодым первым секретарем обкома партии. В том же году стал членом ЦК КПСС. Сыграл большую роль в развитии нефтяной и нефтехимической промышленности, машиностроения в республике. Под его руководством разведаны и пущены в эксплуатацию новые месторождения нефти, основан Нижнекамск, где построен ряд крупных химических заводов. Построена Камская ГЭС, Заинская ГРЭС. Объединение «Татнефть» за свою историю дало стране наибольший объём нефти. В городе Набережные Челны был построен Камский автомобильный завод (КАМАЗ). В Нижнекамске построен «Нижнекамскнефтехим». В Казани запущен «Казаньоргсинтез», открыт завод по производству силикатного кирпича, застроены новые районы Горки и Савиново. Возведены цирк, Татарский академический драматический театр им. Камала, дворец спорта, Центральный стадион, дворец химиков и плавательный бассейн, гостиница «Татарстан», построены одни из самых крупных в СССР тепличные хозяйства. С 1979 года по 1986 год — Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Республике Афганистан. Книга «Фикрят Табеев. Судьбе благодаря и вопреки» Выпущена издательской группой «Крылья». |